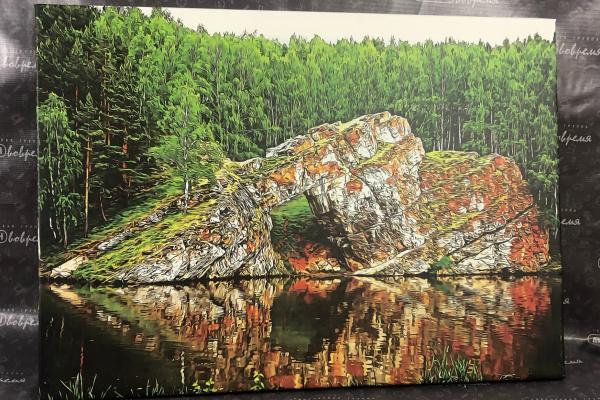Художник-постановщик — это один из главных соавторов режиссёра в процессе создания спектакля. Именно его творчество вызывает в сознании зрителя образы места и времени действия. Это очень интересная и весьма сложная профессия, ведь театр — искусство коллективное, а значит, сценографическое решение должно взаимодействовать с актёрами-персонажами, а они с ним, а ещё с музыкой, светом, проекцией. Да и само по себе нести эмоционально-драматургическую нагрузку. Такая удивительная особенность театра делает профессию театрального художника совершенно уникальной. А подробнее об этом бы поговорили с художником-постановщиком — Львом Низами.
— Лев, для начала расскажи немного о себе и своём детстве.
— Родился я в Асбесте. Рос в многодетной семье — у меня четыре брата и одна сестра. А когда окончил шестой класс, наша большая семья переехала в деревню Крайчикова, что под Каменском. И там, вплоть до одиннадцатого класса, я посещал Пироговскую школу.
Мы жили весьма насыщенной деревенской жизнью: пасли коров, постоянно занимались какой-нибудь стройкой — то строили свой дом, то его переделывали. Словом, это был неприрывный процесс получения большого опыта. То сварочные работы проводили, то бетонные. И, по мере получения необходимого опыта, мы стали на этом зарабатывать — брали разнообразные заказы: от маленьких построек до полноценных дачных домов. Иными словами, вся наша жизнь тогда состояла из стройки и учёбы.
— Ты посещал в школьные годы какие-нибудь творческие кружки?
— Да. Я параллельно умудрился поступить в музыкальную школу на класс скрипки, причём сразу в третий класс. Ездил на занятия дважды в неделю, в Каменск. Приходилось тринадцать километров проходить пешком, со скрипкой за спиной, до автобусной остановки, поскольку в нашу деревню автобусы не ходят.
— Куда отправились учиться после школы?
— Когда окончил школу, я совершенно не знал, что мне делать дальше и куда мне поступать. И потому, чтобы не тратить время зря, я решил поступить в техникум — туда, где есть строительные профессии, на которые можно обучиться всего за два года. В итоге я поступил, но проучился всего лишь полгода — и ушёл в армию. После армии я не возвращался в техникум, так как не видел в этом никакого смысла.
— Кстати, расскажи о службе в армии. Наверняка она отложила не малый отпечаток и предопределила выбор твоего дальнейшего жизненного пути?
— Армейская жизнь тоже принесла массу опыта — как физического, так и духовного. Пожалуй, именно в армии я и заразился идеей актёрства и сценографии. Потому что там у меня было достаточно свободного времени для полёта фантазии. Занимался там резьбой по дереву — создавал разнообразные фигурки. Начал осваивать это ремесло с цветов — брал бревно и маленьким лезвием от канцелярского ножа строгал цветы. Цель стояла — из цельного дерева, без дополнительных склеек, вырезать полнообъёмный цветок, со всеми, присущими ему, изгибами, прожилками, шипами и распускающимися лепесточками. В итоге, настрогал этих розочек на целую роту, наверное. (Смеётся — прим. ред.) Ребята просили для сделать такие цветы для их любимых, чтобы потом отправить им посылкой домой. И по просьбе офицеров вырезал. В основном бесплатно, потому что время позволяло. Да и мне не жалко — если попросят, почему бы не помочь, если у меня есть такая возможность. Своим родным я тоже вырезал и отправлял всё посылочками.
— Актёрством ты тоже увлёкся в армии?
— Там же, в армии, я увлёкся и пародийными направлениями. Ведь вокруг постоянно ходили разнообразные колоритные персоны: прапорщики, весь офицерский состав и многие другие. И у каждого были какие-то свои интересные черты характера и проявления. И всё это как-то сразу отпечатывалось в голове. И в нужный момент, когда мы шли строем, я начинал представление для тех, кто идёт рядышком. Хотелось, чтобы весь взвод засмеялся. Так мы веселили друг друга. Так проходило время в армии.
— А что было после армии? Расскажи об своих первых шагах в качестве сценографа.
— После армии я учился в Екатеринбургском государственном театральном институте (ЕГТИ) на курсе Вячеслава Владимировича Белоусова. Однажды у нас начались самостоятельные работы. Естественно я с кем-то из студентов был в паре. С кем-то ставили одну работу по Пушкину, а с кем-то другую. В процессе работы разу просыпался интерес сделать что-то интересное, хотелось как-то обыграть пространство. А поскольку у меня был опыт строительства, я начал это дело активно развивать.
Уже тогда, в ЕГТИ, начал формироваться наш творческий тандем с Сашей Балыковым. С ним мы сделали целых два курсовых спектакля! Спасибо большое нашему замечательному мастеру ВВ Белоусову, за то, что он дал нам такую возможность, ведь это редкость, когда студенческие работы входят в репертуар актёрского курса. Так появился спектакль «С училища», который в последствии был нами перенесён в Театр драмы № 3. А также спектакль «Рогатка», который тоже продолжает жить, но на сцене Коляда-театра (в котором я сейчас работаю художником и актёром).
— Расскажите об особенностях и нюансах своей работы.
— Работу театрального художника, я могу сравнить с потоком — течением всего и вся, который несёт тебя, вдохновляет и заряжает. Пока ты в потоке, ты полон всех необходимых ресурсов для плодотворной работы! Но бывает такое, когда ты выпадаешь из этого потока, по разным причинам — тут уже опасная яма. Благо я человек не депрессивный и быстро придумываю, как вернутся в так называемый поток.
Самое интересное в работе художника? Наверное в том, что пригодиться может всё! То есть — вообще всё, что встречается на пути в повседневной жизни! Небо, пышные оболочка — их форма, трещина в асфальте, структура коры дерева, трясущийся лифт, дедушка с тросточкой, белка в дендропарке, случайно разбившаяся кружка, просмотренный фильм или прочитанная книга. Вот правда, как у Гоголевского «Плюшкина» у которого завален весь дом, только тут не материальное, а наблюдения. Всё идёт в копилку, откладывается в голове и ждёт своего часа!
Главное для художника — чтобы была работа. И она у меня есть, чему я очень благодарен.
— Доводилось сталкиваться с какими-нибудь сумасшедшими, курьёзными или нелепыми ситуациями в работе или на сцене?
— Слава Богу, ничего криминального и опасного (чего я всегда боюсь) никогда не случалось. У меня достаточно много спектаклей, которые я делаю в паре с режиссером Александром Балыковым. Они у нас, как правило, довольно-таки сложные в инженерном плане. Конструкции опускаются и поднимаются. Некоторые конструкции поднимают и опускают сами актёры. Поэтому мы стараемся делать всё очень надёжно: проверяем, тестируем и следим за тем, чтобы всё хорошо работало. Бывали, конечно, небольшие моменты, о которых, наверное, лучше не говорить. Это всё равно остаётся, так или иначе, тайной театра. Зритель всё равно не знает, как должно быть — и это хорошо. Если происходит что-то непредвиденное на сцене, то актёры, как правило, это обыгрывают так, что зритель и не заподозрит.
— Ты работаешь один или у тебя есть команда помощников?
— Работаю не один, а в партнёрстве с режиссером. Профессия сценограф — это всегда партнёрство. Не только с режиссером, но с цехами и актёрами. Это постоянное взаимодействие.
— Откуда берёшь вдохновение на работу?
— Вдохновение получаю от всего, что происходит вокруг — от постоянных репетиций и спектаклей, где я задействован, как актёр. От фильмов, которые стараюсь смотреть, как можно чаще. От книг: к примеру, на данный момент я читаю Стивена Кинга (я большой его поклонник). Даже от прогулок со своей собакой Юкки, я тоже получаю дозу вдохновения.
Вдохновение — это самое главное. Если оно есть — это сразу же и мотивация, и энергия, и максимально плодотворный поток. Это состояние, в котором я стараюсь находиться всегда, когда работаю.
Первая задача — заинтересовать себя работой. Но для меня это никогда не составляло труда, даже если пьеса мне изначально не нравилась. Как только начинаешь работать, обсуждать с режиссёром (что и как будем делать), то как-то сразу же включаешься в процесс и приходит вдохновение.
— Какое количество времени занимает постановка спектакля и твоя работа?
— Сама постановка спектакля идёт от одного до двух-трёх месяцев. Иногда дольше (но это редко). Сам процесс придумывания и создания каких-то чертежей, эскизов и макетов — отнимает примерно месяц, иногда чуть больше. Бывало, что и быстрее всё это дело происходило.
— Поделитесь секретом успеха. Какими качествами, чертами характера и талантами должен обладать хороший мастер в этой индустрии?
— Должен быть постоянный и непрерывный интерес изучать что-то новое. Если ты варишься в собственном соку, то ты не будешь развиваться в этой профессии. Тебе просто неоткуда будет брать информацию и какие-то образы. Это же всё равно, так или иначе, берётся из пространства, а не полностью из головы. Да, ты развиваешь эту тему и какую-то мысль, которую когда-то и где-то услышал или увидел. Но основа — то, что вокруг. И это самое главное, без чего в этой профессии не состояться.
Но есть и вторая — техническая часть. Я считаю, что необходимо быть технически оснащённым. Понимать азы инженерии и сопромата. Это всё крайне важно, потому что ты работаешь с материалами и с кем-нибудь постоянно взаимодействуешь (нпример, с цехами). Ты им объясняешь, показываешь, придумываешь материалы, которые будут использоваться. И это всё должно работать! Всё должно стоять прочно и не портиться со временем. Всё должно быть безопасно для артиста. Конечно, есть такие люди, которые контролируют процесс безопасности в театрах. Но я, как сценограф, должен сам это всё понимать.
— Если не секрет, поделись планами на будущее.
— Весь будущий сезон уже расписан полностью. Мне предстоит работа в рязанском и ставрапольском кукольных театрах. Помимо этого, мы будем ставить новогодний спектакль «Алладин» в «Коляда-Театре». А также ещё два-три спектакля находятся в разработке. А что касается «Драмы Номер Три» — здесь тоже очень множество планов. Обо всём рассказывать не буду, пусть это станет сюрпризом для наших зрителей. Из ближайших работ — «Пигмалион», а также мы готовим детскую сказку.